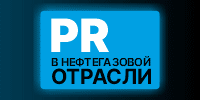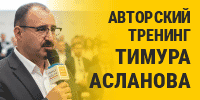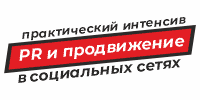Рынок компонентов промышленной автоматизации в России после 2022 года, когда ряд ведущих иностранных производителей покинул страну, столкнулся с беспрецедентным вызовом импортозамещения. Тем не менее статистика свидетельствует о стремительном росте: объем рынка систем автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) вырос почти на 50% в 2024 году, достигнув 124,1 млрд руб. (против 82,9 млрд руб. в 2023 г.). По оценкам компании Б1 (бывшая EY), в ближайшие пять лет оборот российского рынка промышленной автоматизации может более чем удвоиться – с 83 млрд руб. в 2024 г. до 207 млрд руб. к 2030 г. (среднегодовой рост порядка 16,5%). Драйверами этого роста станут, с одной стороны, ажиотажный спрос на замену ушедших решений и цифровизацию производств, а с другой – меры господдержки, включая инвестиции в роботизацию и инфраструктурные проекты.
Однако бурный рост рынка сопровождается значительной реорганизацией его структуры. Ранее до 95% сегмента промышленной автоматизации приходилось на продукцию иностранных брендов (Siemens, Schneider Electric, Honeywell, Emerson, Yokogawa и др.), которые доминировали в поставках контроллеров, приводов, датчиков и программного обеспечения. Их уход привел к дефициту целых классов решений – например, высокоточных сервоприводов для станков с ЧПУ и распределенных систем управления для непрерывных производств. В 2024 году доля отечественных решений в крупных проектах еще остается низкой. По данным исследования «Северстали», 98% проектов в отраслях ТЭК, металлургии и химии в 2024 г. по-прежнему опирались на зарубежное ПО и платформы (преимущественно Siemens) Тем не менее тренд намечен: предприятия формируют «дорожные карты» перехода на российские продукты, активно тестируют новые отечественные системы и уменьшают требования к ним, ориентируясь на более короткие сроки поставки и выгодную стоимость. Одновременно сохраняется дисбаланс спроса и предложения – с одной стороны, накопился отложенный спрос на новые решения, с другой – снижение инвестбюджетов в промышленности сдерживает обновление оборудования. В таких условиях компании все чаще вынуждены продлевать ресурс существующих систем, параллельно занимаясь их поэтапной заменой на отечественные аналоги.
Общая картина рынка сегодня – это переходный этап к новой структуре поставщиков. Усилия государства стимулируют развитие российских производителей компонентов автоматизации и приход игроков из дружественных стран. Ниже мы рассмотрим основные категории компонентов – датчики, приводы, контроллеры и силовое оборудование – их текущее состояние, ключевые тенденции и перспективы.
Датчики: оптические, индуктивные, емкостные и не только
Промышленные датчики – это «нервная система» автоматизации, обеспечивающая сбор данных о параметрах технологических процессов. Российский сегмент датчиков отличается тем, что определенный уровень локального производства здесь существовал еще до новых санкционных реалий. В стране давно выпускаются контрольно-измерительные приборы: от термометров и манометров до различных бесконтактных датчиков положения. Так, компания ОВЕН (Москва) с 1991 года выросла в одного из ведущих отечественных разработчиков и производителей приборов для автоматизации, наладив собственное производство полного цикла в Тульской области. Другой пример – СКБ «Индукция», крупный российский производитель промышленных датчиков, чье качество уже сопоставимо с уровнем ведущих зарубежных брендов (таких как Pepperl+Fuchs, Sick, Baumer). Именно продукция СКБ «Индукция» сегодня становится прямой заменой иностранным оптическим, индуктивным и емкостным датчикам на многих предприятиях, о чем свидетельствуют отзывы интеграторов автоматизации.
Отечественные заводы сегодня выпускают практически всю номенклатуру датчиков, необходимых для АСУ ТП:
- Индуктивные датчики приближения для обнаружения металлических объектов;
- Оптические (фотодатчики) для контроля объектов на конвейере, считывания меток и пр.;
- Емкостные датчики для определения уровня и наличия материалов (в том числе сыпучих и жидких);
- Датчики давления, расхода, температуры – от простых манометров до цифровых преобразователей;
- Специализированные датчики (например, вибродатчики, газоанализаторы, энкодеры положения).
Многие из этих приборов разрабатываются в России. Помимо упомянутых ОВЕН и СКБ «Индукция», можно отметить компании РОСМА (Санкт-Петербург, датчики давления и расходомеры), Манотомь (Томск, датчики давления и термометры, в т.ч. взрывозащищенные), Термодат (Москва, измерители и регуляторы температуры и влажности) и др. Импортные фотодатчики, ультразвуковые дальномеры, LiDAR-сканеры и прочие высокотехнологичные сенсоры также доступны на рынке – их поставляют либо через параллельный импорт, либо заменяют продукцией из Азии. Например, китайские бренды Autonics, Lanbao, Chenzhu и др. активно предлагают в РФ оптоэлектронные и лазерные датчики, контроллеры сигналов и прочие компоненты (некоторые из них представлены через локальных дистрибьюторов).
Ключевой тренд в сегменте датчиков – рост доверия потребителей к российским приборам. Если еще пару лет назад у инженеров были сомнения в надежности новых отечественных датчиков, то к концу 2024 года ситуация изменилась: отмечается заметный прогресс в качестве и функционале продукции, сокращение сроков поставки и расширение сервисной поддержки. Это во многом связано с тем, что производители успели модернизировать линейки датчиков, часто – с оглядкой на лучшие мировые образцы. При этом у рынка остаются задачи – например, нарастить выпуск смарт-датчиков с поддержкой цифровых протоколов (IO-Link, EtherCAT и др.) и собственных датчиков для жестких условий (температура, взрывозащита) в объемах, достаточных для полного импортозамещения в отраслях нефтехимии, энергетики и др. Тем не менее базовые потребности промышленности по датчикам уже сегодня могут быть покрыты российскими решениями совместно с поставками из дружественных стран.
Приводы: электродвигатели, сервоприводы, шаговые и частотно-регулируемые
Приводная техника – сердце любой автоматизированной системы, отвечающее за движение механизмов. В эту категорию входят: электродвигатели и частотно-регулируемые приводы (преобразователи частоты) для них, а также сервоприводы и шаговые приводы для прецизионного позиционирования. Исторически в России парк приводов был значительно зависим от импорта, особенно в высокоточном сегменте. На станочном оборудовании и робототехнике широко применялись серводвигатели таких марок, как Siemens, Fanuc, Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa и др. – все они до недавнего времени были лидерами рынка, но к 2022–2023 гг. покинули его. В результате образовался технологический вакуум, особенно в нише высокоточных сервоприводов подачи и шпиндельных узлов: до сих пор российских прямых аналогов таким системам практически не было.
Тем не менее за последние два года отечественные компании активизировали разработки в сфере приводов. В начале 2023 года фирма «ИнноДрайв» объявила о запуске в серийное производство линейки отечественных сервоприводов «ХАРЗА», позиционируемых как замена решениям Allied Motion, Kollmorgen, Mitsubishi, SEW-Eurodrive и др. Сервоприводы «ХАРЗА» – это высокоинтегрированные мехатронные модули, включающие в одном корпусе двигатель, редуктор, тормоз, энкодеры и датчики температуры. Предлагаются модели разного типоразмера – от компактных (для мобильной робототехники) до мощных приводов для станков и промышленных роботов. Появление таких продуктов сигнализирует о начале преодоления технологического разрыва в области сервоприводов. Кроме «ИнноДрайв», собственные разработки прецизионных приводов ведут предприятия Завод мехатронных изделий (Москва) – серводвигатели серий СПС и СПШ, НПО «Электромаш» и ряд других инновационных фирм. Впрочем, эксперты отмечают, что на конец 2024 г. российских аналогов по качеству и мощности, равных лучшим мировым сервоприводам, еще немного. Многие проекты пока находятся на стадии пилотных образцов или мелкосерийного выпуска, а потребность в сотнях и тысячах серводвигателей для новых станков удовлетворяется за счет импорта из Китая, Тайваня, Южной Кореи.
В сегменте частотно-регулируемых приводов (ПЧ, они же инверторы или преобразователи частоты) ситуация несколько лучше. Еще в 2010-е годы в России появились собственные марки ПЧ для управляемых электродвигателей малой и средней мощности. Например, компания Веспер (Москва) наладила производство линеек частотников для насосов, вентиляторов, общепромышленных механизмов. ОВЕН выпускает компактные ПЧ под брендом ОВЕН ПЧВ (на основе китайских OEM-комплектов), Триол (Харьков/Москва) – известен промышленными приводами для нефтедобычи и энергетики, Лидер и Полюс-Плюс – еще несколько отечественных брендов ПЧ. По данным портала RusAutomation, доступны по крайней мере 8–10 российских серий преобразователей частоты, в том числе ОптимЭлектро, Русэлком, Электротекс-ИН и др. Многие из них создавались в партнерстве с азиатскими производителями и адаптированы под российские условия эксплуатации (морозостойкость, помехозащищенность и т.п.). Ушедшие с рынка гиганты (Siemens – Micromaster/Sinamics, ABB – ACS, Danfoss – VLT, Schneider – Altivar) частично заменяются этими локальными решениями, а также прямым импортом из Китая. Китайские частотники – Inovance, INVT, Delta, Veichi и десятки других – хлынули в РФ с 2022 г. и занимают заметную долю поставок благодаря налаженным каналам параллельного импорта и появлению официальных дистрибьюторов.
Что касается электродвигателей и шаговых приводов, эта область традиционно имела российские компетенции (советское наследие в электромашиностроении). Крупные электромоторы (для насосов, компрессоров, станков) производят заводы АО «РУСЭЛПРОМ», НПО «Элсиб», Московский завод «Динамо» и др. – их продукция остается на рынке, хотя часто комплектуется иностранной автоматикой. Шаговые двигатели и простые приводы малой мощности в большом ассортименте поступают из Китая. Здесь импортозамещение не столь критично, так как шаговые моторы – товар доступный, и его поставки не прерывались. Тем не менее для некоторых ответственных применений (например, приводы в авиа- и военной технике) создаются свои шаговые приводы – такими разработками славятся, в частности, предприятия в Московской и Саратовской областях.
Общая тенденция для рынка приводов – укоренение новых поставщиков. Предприятия, эксплуатирующие оборудование, уже сформировали списки возможных заменителей ушедших брендов. В 2024 году многие пользователи убедились, что отечественные и дружественные приводы могут успешно справляться с задачами: отмечается сокращение простоев из-за отсутствия запчастей, налажен сервис. Вместе с тем высокоточные приводы для сложных систем (роботизированные комплексы, станки высокой точности) остаются зоной риска – их полное замещение потребует еще нескольких лет НИОКР и локализации производства. В ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей российских сервоприводов, расширения линеек ПЧ (в том числе для высоковольтных двигателей свыше 6 кВ) и усиления кооперации с партнерами из стран Азии для трансфера технологий.
Контроллеры и системы управления: ПЛК, ЧПУ и промышленные компьютеры
Контроллеры – мозг автоматизации. Сюда относятся программируемые логические контроллеры (ПЛК) для управления оборудованием, системы числового программного управления (ЧПУ) для станков, а также промышленные компьютеры и специализированные контроллеры (например, для энергетики, транспорта и пр.). Уход таких гигантов, как Siemens (Simatic PLC, Sinumerik ЧПУ), Schneider Modicon, Rockwell Allen-Bradley, GE и Mitsubishi, поставил под угрозу функционирование множества АСУ, построенных на их базе. Одновременно открылось «окно возможностей» для российских разработчиков, которые годами работали в нишевых сегментах. Сегодня на рынке представлены десятки моделей отечественных ПЛК, способных закрыть значительную часть задач по автоматизации.
Среди основных производителей российских ПЛК можно выделить:
- ОВЕН (Москва) – недорогие моноблочные ПЛК семейства ПЛК110/160/200, а также панельные контроллеры (СПК107/110) на базе CoDeSys, применимые для небольших и средних систем;
- НТП «СКБ Промавтоматика» (Пенза) – ПЛК в конструктиве на DIN-рейку для АСУ ТП общепромышленных и энергетических объектов;
- МЗТА (Москва) – контроллеры для ЖКХ, отопления, пищевой промышленности;
- Нефтеавтоматика (Уфа) – один из старейших разработчиков, выпускает ПЛК серии MKLogic для нефте- и газопереработки;
- НПФ «КРУГ» (Пенза) – создатель собственных моноблочных контроллеров и SCADA-системы, известной надежной работой в условиях плохой связи;
- RealLab (Таганрог) – широкая линейка ПЛК разной производительности, вплоть до отказоустойчивых кластеров;
- ЭлеСи (Томск) – контроллеры серии ТМК для автоматизации среднего масштаба;
- Прософт-Системы (Екатеринбург) – производитель контроллеров Регул для энергетики и промышленности;
- Segnetics (Санкт-Петербург) – известен компактными ПЛК с интегрированным HMI (линейка Segnetics SMH) для HVAC и небольших систем;
- ИНЭУМ им. Брука (Москва) – разрабатывает особую линейку ПЛК «Эльбрус» на российских процессорах для проектов с повышенными требованиями безопасностиineum.ru.
Этот перечень далеко не исчерпывающий – рынок дополнили десятки более мелких компаний. Важно отметить, что каждый российский производитель контроллеров специализируется на своих нишах, не имея той широты ассортимента, что была у Siemens или Schneider. Поэтому интеграторам нередко приходится комбинировать решения разных вендоров в одном проекте. В 2023 году отраслевые объединения (например рабочая группа при Минпромторге) начали работу над созданием стандартов совместимости и открытой архитектуры АСУ ТП, чтобы облегчить сопряжение оборудования разных марок. Пользователям же рекомендуется тщательно проверять совместимость отечественных изделий между собой на этапах проектирования.
Отдельного внимания заслуживают системы ЧПУ для станков. Это специализированные контроллеры, обеспечивающие управление многокоординатными движениями. Российское станкостроение исторически опиралось на импортные стойки ЧПУ (FANUC, Siemens, Heidenhain, Haas и др.), однако существуют и отечественные разработки. Например, в Ижевске с 1990-х выпускается семейство УЧПУ «Маяк», в Санкт-Петербурге – системы BalteСNC («Балт-Систем»), в Нижнем Новгороде – FMS-3000 («Модмаш-Софт»). Эти производители предлагают полный спектр компонентов для станков: от стоек ЧПУ до приводов подачи, пультов оператора и т.д. Кроме того, ряд научных центров (МГТУ «Станкин», ФГУП «Станкоимпорт») ведут проекты по созданию современных ЧПУ, включая системы на базе отечественных процессоров и ОС. Тем не менее, как и с ПЛК, массовое внедрение российских ЧПУ идет постепенно. Многие машиностроительные заводы из-за критичности производства продолжили эксплуатацию старых стоек и даже поддерживают их работоспособность через параллельный импорт комплектующих. Предполагается, что к 2025–2027 гг. ситуация изменится: ожидается выпуск нескольких новых моделей российских ЧПУ, а также возможная локализация китайских систем (например, GSK, NC210 и др.) на мощностях в РФ.
Таким образом, в сфере контроллеров основная линия перемен – переход от монополии нескольких глобальных брендов к полицентристской экосистеме из множества отечественных и азиатских производителей. Это повышает требования к интеграторам (им нужно разбираться во множестве новых продуктов), но и стимулирует конкуренцию между российскими компаниями, ускоряя их развитие. Уже к концу 2024 года клиенты отмечают, что отечественные ПЛК и SCADA заметно прибавили в качестве, функциональности и удобстве использования. Впереди – большой пласт работы по унификации стандартов, импортонезависимости элементной базы (микроэлектроники) и доведению до рынка крупных систем управления для критически важных объектов (например, распределенных систем для нефтехимии и энергетики, которые пока частично разрабатываются госкорпорациями Ростех и Росатом).
Силовые компоненты: преобразователи, источники питания, коммутационная аппаратура
Силовая часть промышленной автоматизации включает все, что связано с электрической энергией для приводов и устройств: это и упомянутые выше частотные преобразователи, и различные блоки питания, и коммутационные аппараты (низковольтные автоматические выключатели, контакторы, реле, предохранители, пускатели и т.д.). Этот сегмент особенно важен, так как надежность силового оборудования – залог бесперебойной работы любых автоматических линий.
Начнем с источников питания. В АСУ повсеместно используются стандартные блоки питания (чаще всего на 24 В DC) для питания датчиков, контроллеров, исполнительных механизмов. До недавнего времени на российском рынке доминировали иностранные марки (Mean Well, Puls, Siemens Sitop, Schneider, Omron и др.). Сейчас их продукция все еще доступна – либо со складов, либо по параллельному импорту. Параллельно растет предложение отечественных и локализованных блоков питания. Например, компания KIPPRIBOR (Калуга) освоила выпуск собственных промышленных БП и уже поставляет их наряду с другими изделиями (реле, датчики). Ряд российских производителей радиоэлектроники (например, «Модуль» из Санкт-Петербурга) анонсируют линейки импульсных источников питания для шкафов автоматики. Тем не менее пока значительная доля рынка БП покрывается импортом из Китая и Тайваня, где производятся надежные и недорогие устройства.
Теперь коммутационные аппараты низкого напряжения – это выключатели, контакторы, предохранители, реле и прочее электрораспределительное оборудование до 1000 В. Данный сектор в России имел несколько сильных локальных игроков еще до 2022 года, и сейчас их значение лишь возросло. Крупнейшими российскими компаниями в области низковольтной электроаппаратуры являются: Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ), группа IEK (торговая марка IEK), EKF и TDM Electric. Эти предприятия имеют широкие линейки автоматов защиты, контакторов, УЗО, пускателей, корпусов щитов и пр. Например, КЭАЗ в 2022–2023 гг. не только сохранил производство, но и предложил заказчикам бесплатный пересчет проектов, изначально спроектированных на импортных компонентах, на аналогичное оборудование КЭАЗ. IEK и EKF нарастили выпуск продукции, расширили ассортимент, стремясь заполнить нишу, образовавшуюся после ухода Schneider Electric и ABB. К слову, бизнес Schneider Electric в России был продан местному менеджменту и в 2022 г. переименован в Systeme Electric (Систэм Электрик). Компания-преемник продолжает выпускать часть номенклатуры Schneider (например, модульные автоматы и розетки) на российских заводах, хотя сложные изделия (частотники, приборы автоматизации) эта новая фирма пока не освоила.
Существенную роль на рынке силовых компонентов теперь играет китайский концерн CHINT. Это мировой гигант электротехники, присутствующий в России с 2010 года. В 2022 году CHINT запустил для РФ отдельный локальный бренд ENSMAS – под ним компания локализует свои решения в сфере промышленной автоматизации. Более того, в 2025 г. анонсировано строительство первого завода CHINT в Подмосковье, который с 2026 г. начнет выпуск продукции под маркой ENSMAS на территории РФ. CHINT предлагает широкий спектр низковольтных аппаратов (автоматы, контакторы, реле и пр.), средневольтного оборудования (комплектные распределительные устройства, выключатели 6–35 кВ) и даже силовые трансформаторы. Фактически, китайские компании в секторе силовой электроники заняли нишу ушедших западных брендов. Помимо CHINT, можно отметить присутствие DELIXI, People Electric, Eaton China (частично), Noark и др. Эти бренды активно сотрудничают с российскими дистрибьюторами и создают совместные сервисные центры (например завод ЧЭАЗ в Челябинске стал авторизованным сервис-центром CHINT в 2025 г.).
Не стоит забывать и об отечественных разработчиках силовой электроники. Помимо упомянутых изготовителей частотных приводов (Веспер, Триол и др.), существуют производители силовых полупроводниковых модулей (диоды, тиристоры) – НПП «Электровыпрямитель», Proton-Electrotex (Орел) и др. Их продукция используется в том числе в промышленных источниках питания, сварочных аппаратах и преобразователях для электроприводов. Российская компания «Таврида Электрик» заслуживает отдельного упоминания: будучи мировым лидером в вакуумных выключателях среднего напряжения, она продолжает выпускать коммутационное оборудование 6–35 кВ с интеллектуальными блоками управления, применяемое в сетях и на предприятиях по всему миру. Теперь ее решения востребованы и внутри страны, где реализуется курс на технологическую независимость энергетики.
Подводя итог, сегмент силовых компонентов характеризуется более высокой степенью локализации, чем ряд других направлений автоматизации. Российские заводы вполне способны обеспечить потребности в базовой низковольтной аппаратуре и простых источниках питания – эти позиции частично уже закрыты. Задачи на перспективу – создание отечественных силовых полупроводников (чтобы снизить зависимость от импортных транзисторов IGBT, контроллеров и т.д.), а также развитие производства сервоприводной силовой электроники (сервоусилителей, драйверов двигателей) для полного цикла локализации приводов. Государственная политика в области электротехники (льготное кредитование, субсидии производителям НВА) уже стимулирует эти процессы.
Основные игроки на российском рынке компонентов
Структура игроков рынка существенно изменилась. Если до 2022 г. ключевыми поставщиками были иностранные корпорации (Siemens, Schneider, ABB, Omron, Mitsubishi, Danfoss, Emerson, Rockwell и др.), то сегодня можно выделить несколько групп лидеров российского рынка:
- Отечественные производители приборов и датчиков: ОВЕН, РОСМА, СКБ «Индукция», НПФ «Мераприбор», НПП «Рэлсиб», «Манотомь», «Промавтоматика» и др. Эти компании обеспечивают контрольно-измерительные приборы, датчики и средства автоматизации для широкого круга отраслей. Например, продукция ОВЕН и СКБ «Индукция» уже массово устанавливается взамен Pepperl+Fuchs и аналогов
- Производители контроллеров и систем управления: перечисленные ранее разработчики ПЛК (ОВЕН, КРУГ, ЭлеСи, Прософт, RealLab, Segnetics и др.), а также интеграторы с собственными решениями (НКП «Текон», Нефтеавтоматика, Росатом-внедрения). В 2023 г. образовалась рабочая группа под эгидой Ассоциации разработчиков программно-аппаратных комплексов, куда вошли многие из этих компаний, чтобы сообща создавать открытую платформу АСУ ТП взамен ушедших DCS-систем. Основная конкуренция в этом сегменте разворачивается вокруг крупных промышленных проектов – здесь заметны госкорпорации (Ростех, Росатом), инвестирующие в собственные решения для стратегических предприятий.
- Производители приводов и силового оборудования: Веспер, Триол, ЭКРА, КЭАЗ, завод «Контактор», НПО «Энергоконтракт» – эти и другие заводы отвечают за выпуск электроприводов, электротехники и силовой аппаратуры. К примеру, КЭАЗ, IEK, EKF и TDM Electric стали фактически системообразующими поставщиками низковольтных компонентов после ухода Schneider и Legrand. Они же по выручке входят в топ крупнейших компаний сегмента (с годовым доходом 15–45 млрд руб.).
- Локализованные и новые бренды: Это и Systeme Electric (преемник Schneider Electric, сохраняющий производство на нескольких заводах в РФ), и CHINT/ENSMAS (китайский инвестор с локальным брендом и будущим производством в России), и, например, MOXA (тайваньский производитель средств промышленной связи, давно локализовавший поддержку через партнера «Ниеншанц-Автоматика»). Сюда же можно отнести производителей из Беларуси и EАЭС, которые нарастили поставки: ОАО «Промавтоматика» (Могилев), НПО «Рухсервомотор» (Минск, серводвигатели) и др. Их продукция часто воспринимается на рынке как равнозначная российской с точки зрения логистики и сервиса.
- Интеграторы и дистрибьюторы: Укрепили свои позиции компании, занимающиеся комплексной поставкой и внедрением. Например, ГК НКК (Национальная компьютерная корпорация) создала подразделение промышленной автоматизации и разработала собственный ПАК «Кейсис» для реинжиниринга импортных АСУ. Крупные ИТ-интеграторы («АйТеко», «Ланит», «Крок») тоже расширяют направления по промышленной автоматизации, часто сотрудничая с отечественными производителями. Дистрибьюторы электротехники (ООО «Союз-Прибор», комания «ЭТМ» и др.) заключили новые договоры с азиатскими брендами, обеспечивая наличие компонентной базы на складах.
Стоит подчеркнуть, что роль интеграторов выросла: рынок ищет не просто продавца оборудования, а партнера, способного подобрать связку из разных компонентов и гарантировать работоспособность системы в целом. В новых условиях часто именно интегратор берет на себя риски, комбинируя российские контроллеры, китайские приводы, отечественные датчики и т.п., чтобы выдать заказчику готовое решение. Поэтому многие игроки ИТ-рынка открыли инжиниринговые подразделения, а традиционные АСУТП-интеграторы расширили экспертизу (ОВЕН, АСКОН, и др. теперь предлагают и софт, и облачные сервисы вокруг своего «железа»).
В целом, ландшафт игроков стал более разнообразным. Ушедшие иностранные компании либо полностью заменяются новыми (как Schneider → Systeme Electric, Phoenix Contact → Contactor/CHINT, Festo → SMC и пр.), либо их нишу занимают коалиции российских фирм. Для конечных потребителей это означает больше опций, но и больше ответственности при выборе – необходимо тщательнее подходить к вопросам совместимости, поддержки, локализации производства.
Влияние санкций, импортозамещения и госполитики
Санкции 2022–2023 гг. и разрыв прежних цепочек поставок стали главным фактором перемен в отрасли. Резкое ограничение доступа к зарубежным технологиям породило риск остановки производств на критически важных объектах – нефтегаз, энергетика, транспорт. Государство отреагировало запуском политики форсированного импортозамещения, превратившейся из краткосрочной меры в долгосрочную стратегическую цель развития. Если раньше импортозамещение носило во многом декларативный характер, то с 2022 года оно приобрело обязательную нормативную базу. Пример – постановление Правительства РФ №1912, обязывающее к 1 января 2030 г. перевести объекты критической информационной инфраструктуры на отечественные программно-аппаратные комплексы (ПАК). Это требование фактически заставляет крупные предприятия в ближайшие пять-шесть лет найти или создать замену всем импортным компонентам АСУ ТП, поскольку эксплуатация иностранного оборудования на объектах КИИ будет запрещена.
Госполитика стимулирует промышленников несколькими путями: прямые запреты (как выше), субсидии и льготное финансирование, организация научных и опытно-конструкторских работ. В 2023 г. утверждена федеральная программа «Развитие промышленной робототехники и автоматизации», предполагающая выделение ≈350 млрд руб. до 2030 г. на поддержку производителей и потребителей роботизированных систем. Сюда входят субсидии на НИОКР, льготный лизинг оборудования, компенсация затрат на внедрение и др. Кроме того, правительство через Минпромторг стимулирует создание консорциумов разработчиков – так, были сформированы дорожные карты развития новых систем промышленного ПО (например, платформа реального времени для контроллеров). Регуляторы также ужесточили требования к локализации аппаратной части: чтобы продукт считался российским, теперь нужно максимальное использование компонентов отечественного производства и сборка в РФ. Эти меры призваны не допустить ситуации псевдолокализации, когда под российской маркой продается полностью импортное изделие.
Одно из чувствительных последствий санкций – нарушения логистических цепочек. В первые месяцы 2022 года поставки западных комплектующих практически остановились, что грозило конвейерам простоем. Однако бизнес быстро переориентировался: возник механизм параллельного импорта, когда нужные изделия ввозятся через третьи страны без разрешения правообладателя. За 2022–2023 гг. предприятия выстроили устойчивые цепочки получения нового оборудования и запчастей таким путем. Популярными хабами стали Турция, Казахстан, ОАЭ, Китай. В результате параллельного импорта и сотрудничества с дружественными странами россиянам удалось поддерживать в рабочем состоянии многие импортные системы и даже продолжить их монтаж на новых объектах. Впрочем, это временное решение: параллельный импорт увеличивает цены и сроки поставки, плюс не гарантирует обновлений ПО и официального сервиса.
Сотрудничество с Китаем и другими странами Азии стало спасительной подушкой для отрасли. Китайские производители увидели возможность занять освобожденное пространство и пошли навстречу: наладили коммуникации, расширили линейки продукции под нужды РФ, начали планы локализации в России. К 2025 году сотрудничество РФ и КНР в области автоматизации усилилось на всех уровнях. Однако правительство РФ, по словам представителей НКК, теперь стремится избегать просто новой зависимости – задача стоит в том, чтобы дружба с Китаем способствовала развитию собственного производства, а не заменила одну импортную зависимость на другую. Поэтому в проектах импорта китайского оборудования все чаще закладываются требования о передаче технологий или организации сборки внутри страны.
Санкции коснулись и микроэлектроники, что напрямую влияет на компоненты автоматизации (контроллеры, приводы, датчики содержат процессоры, микросхемы памяти, АЦП, силовые транзисторы и т.п., большинство которых ранее импортировалось). Ограничения на поставку высокотехнологичных чипов в РФ создали риск дефицита ключевых компонентов. Отечественная микроэлектронная промышленность, по мнению экспертов, пока не соответствует потребностям технологического суверенитета. Поэтому российские производители компонентов АСУ осваивают способы закупки электронных компонентов через параллельный импорт, а государство выделяет субсидии на развитие отечественных аналоги (например, ПЛИС, микроконтроллеров). В то же время растут требования по кибербезопасности АСУ ТП: усиление санкций привело к тому, что обновления ПО от зарубежных вендоров могут быть недоступны, а это потенциально уязвимо. Ответом стали инвестиции в российское промышленное ПО (ОС реального времени, SCADA, базы данных), которые поддерживаются на высоком уровне – переход на российское ПО в 2024 г. достиг ~80% от всех закупок ПО для промышленных нужд.
В итоге влияние санкций и ответной политики можно свести к нескольким ключевым эффектам: ускоренная локализация (вынужденная, но дающая толчок индустрии), смена поставщиков (азиатизация импорта), финансовое давление (издержки выросли, но компенсируются господдержкой) и стандартизация/кооперация (игроки объединяются для совместного преодоления технологических барьеров). Отрасль вышла из режима шока и к 2024 году перешла в режим активной перестройки, о чем говорит и стабилизация цен, и появление успешных кейсов замещения без потери эффективности.
Ключевые вызовы и угрозы
Несмотря на позитивные сдвиги, перед рынком промышленной автоматизации стоят серьезные вызовы. Среди основных проблем, отмечаемых экспертами:
- Технологические разрывы. По ряду критически важных компонентов до сих пор нет полноценной замены. Примеры: распределенные системы управления для сложных непрерывных производств (DCS-системы для нефтехимии, энергетики) – российские аналоги только разрабатываются и их доведение до серийного внедрения требует времени. Высокоточные сервоприводы и шпиндельные узлы станков – здесь, как отмечалось, есть успехи (первые модели “Харза”), но далеко до полного спектра типоразмеров и мощностей. Контроллеры верхнего уровня и сетевое оборудование (промышленные коммутаторы, системы PLC/PAC большого класса) – в крупных проектах пока применяются либо старые иностранные, либо экспериментальные отечественные решения, нуждающиеся в доработке. Такой технологический разрыв создает угрозу замедления модернизации предприятий: если не будет доступных продвинутых решений, некоторые проекты могут «зависнуть» в ожидании.
- Компонентная база и микроэлектроника. Как уже сказано, зависимость от импорта электронных компонентов – ахиллесова пята. Дефицит чипов или их удорожание влияет на всех – от производителей ПЛК до изготовителей датчиков. Состояние отечественной электроники вынуждает пока полагаться на китайские и тайваньские компоненты, что несет риски (геополитические и логистические). Кроме того, устаревание ПО и электроники – значимая проблема: большая часть систем промавтоматизации в РФ была внедрена в 2000–2010-х и подходит к концу своего жизненного цикла. Их обновление одновременно с переходом на отечественную базу – двойной вызов.
- Экономические ограничения. В условиях роста стоимости денег (высокие процентные ставки), снижения доступности кредитов и уменьшения рентабельности бизнеса предприятия сокращают инвестиции. Это приводит к тому, что многие готовы финансировать только минимально необходимое обновление, откладывая крупные проекты автоматизации. При этом инфляция и валютные колебания влияют на цены компонентов, особенно импортных. Для отечественных производителей тоже проблема – подорожание материалов, сложность закупки оборудования для своих заводов. Государство пытается смягчить это льготным лизингом и субсидиями, но не все компании могут ими воспользоваться быстро. Окупаемость проектов автоматизации в такой ситуации растягивается, что угрожает темпам развития рынка.
- Кадровый и экспертный голод. Переход на новые технологии требует подготовленных специалистов – от разработчиков электроники до инженеров АСУТП на местах. Уход западных вендоров обернулся исчезновением их технической поддержки и тренингов. Российским компаниям пришлось экстренно наращивать сервисные службы и организовывать обучение клиентов работе с новой техникой. Пока этот процесс не безупречен: существует дефицит кадров, умеющих настраивать сложные системы на отечественном ПО, интегрировать разнородное оборудование. Интеграторы отмечают возросшую нагрузку на свой персонал, необходимость «учиться на лету».
- Стандартизация и совместимость. Внутренний рынок наводнили новые бренды компонентов, и далеко не всегда их продукты бесшовно работают вместе. Например, могут возникать проблемы совместимости протоколов связи между российским контроллером и китайским частотником, или сложности интеграции данных из разных SCADA. Требуется время и совместные усилия, чтобы выработать стандарты, написать «драйверы» сопряжения, накопить библиотеку типовых решений. Пока же каждый сложный проект – это во многом индивидуальная работа, что повышает риски срывов и ошибок.
- Кибербезопасность и надежность. Промышленные предприятия справедливо обеспокоены защищенностью новых систем. Импорт иностранной аппаратуры вне официальных каналов несет риск закладок или отсутствия обновлений безопасности. Российские же решения еще должны заслужить репутацию надежных и безопасных. Регуляторы (ФСТЭК, ФСБ) вводят жесткие требования по безопасности информации, шифрованию, что усложняет и удорожает проекты. Также всех беспокоит вопрос: насколько устойчивы новые цепочки поставок? Не повторится ли ситуация внезапного исчезновения компонентов, только теперь уже азиатских? Эти риски непрямых санкций (например, давления на китайских поставщиков) тоже висят над рынком.
Каждый из этих вызовов отрасль старается превратить в задачу с решением. Например, технологический разрыв сокращается за счет реинжиниринга – отечественные фирмы научились модернизировать старые иностранные системы, не дожидаясь появления полных аналогов, а заменяя их частями, сохраняя при этом работоспособность всего комплекса. Проблему кадров смягчают сотрудничеством с вузами, созданием консорциумов для обмена опытом. Риски совместимости снижаются через тестовые полигоны (их создают на базе технопарков, крупных предприятий, куда свозят новое оборудование на испытания).
Важный момент: бизнес в 2024 г. перестал ждать возвращения старых времен. Если в 2022 г. некоторые надеялись на скорое восстановление поставок и тянули с решениями, то теперь очевидно – назад пути нет. Российская промышленность настроена на долгую работу в условиях санкций, и это, как ни парадоксально, позволяет планировать и инвестировать более уверенно. Компании сформировали списки надежных партнеров (отечественных и зарубежных дружественных), выстроили прямую связь с вендорами, организовали обратную связь по доработке продуктов. Такая синергия компетенций всех участников рынка – залог того, что угрозы будут последовательно преодолеваться.
Прогноз на ближайшие три года: динамика и перспективы
Исходя из текущих тенденций, прогноз на 2025–2027 годы для рынка компонентов промышленной автоматизации в России выглядит умеренно оптимистичным. Ожидается, что общий объем рынка продолжит расти двузначными темпами ежегодно. Уже 2024 год, как отмечалось, стал переломным, впервые превысив рубеж 100 млрд руб. объема АСУ ТП. В 2025 году экспертами закладывается рост минимум на 15%, а к 2027-му рынок компонентов может приблизиться к отметке ~150–170 млрд руб. в год (сравнимо с 2–2.5 млрд долларов). Такой рост будет питаться как накопленным отложенным спросом (многие проекты модернизации были поставлены на паузу и теперь будут реализовываться), так и естественной потребностью замены устаревших систем, установленных ~15–20 лет назад.
Структура рынка к 2027 г., вероятно, существенно изменится в пользу отечественных продуктов. Если сейчас доля российских решений в новых проектах промышленной автоматизации едва достигает 20–30%, то через 3 года она может перевалить и за 50% в некоторых отраслях. Такой прогноз основан на том, что: во-первых, вступят в силу нормативные ограничения (крупные предприятия просто не смогут закупать импортные ПЛК или приводы без особых разрешений); во-вторых, ожидается появление на рынке новых отечественных разработок, которые закроют нынешние «пробелы». В частности, уже объявлено, что в 2025–2026 гг. будут доступны: полностью российские DCS-системы (например, проект Ростеха для нефтехимии), обновленные высокопроизводительные ПЛК большого класса (консорциум нескольких производителей под эгидой Минцифры), новые модели сервоприводов (расширение линейки «Харза», выход продуктов от ЗМИ и др.), а также отечественная SCADA нового поколения (платформа, разрабатываемая в рамках дорожной карты «Новое индустриальное ПО»). Некоторые из недостающих классов решений находятся на стадии прототипов уже сейчас, а значит, в ближайшем будущем появятся на рынке.
Импорт при этом никуда не исчезнет, но его характер изменится. Будет расти доля локализованного импорта, когда иностранные компании открывают здесь производство или создают совместные предприятия. Пример – завод CHINT под брендом ENSMAS, который начнет выпускать широку номенклатуру низковольтной аппаратуры в Подмосковье с 2026 года. Возможны и другие проекты: ходят слухи о переговорах с индийскими фирмами по выпуску приводной техники, о приходе турецких производителей датчиков. Китай, скорее всего, продолжит тесную кооперацию: по словам представителей CHINT, российский рынок выбирает тех, кто умеет подстраиваться под условия – китайские компании показывают гибкость и намерены укреплять локальное присутствие. Таким образом, через три года мы увидим более сложную структуру поставщиков: отечественные лидеры займут ключевые позиции, а оставшийся импорт будет представлять собой либо продукцию дружественных стран, либо товары под российскими суббрендами.
Технологические тренды ближайших лет – неизбежно, это дальнейшая цифровизация и интеллектуализация автоматизации. Как только острота проблемы замещения спадет, предприятия вернутся к идеям повышения эффективности за счет современных технологий. Уже сейчас, параллельно с импортозамещением, на некоторых флагманских заводах внедряются элементы ИИ и промышленного интернета – системы предиктивной аналитики, цифровые двойники, сервисы удаленного мониторинга оборудования. Пока такие проекты точечны, но к 2027 г. они могут стать массовой практикой, тем более что правительство включает и их в повестку (например, нацпроект по искусственному интеллекту, фокус на промышленную робототехнику и автоматизацию процессов). Российские разработчики ПО (MasterSCADA, AggreGate, etc.) также стремятся выйти на уровень мировых тенденций, интегрируя AI-модели, поддержку больших данных и прочее в свои платформы.
Что касается локализации производства, то через три года мы сможем говорить о более глубокой локализации не только сборки, но и компонентов. Сейчас многие «российские» изделия все же содержат импортные части (чипы, датчики, силовые элементы). Однако уже выделяются инвестиции на создание местных производств электронных компонентов. Если эти планы реализуются (например, запустятся новые линии SMT для производства плат ПЛК, или завод по сборке промышленных компьютеров в особой экономической зоне), то уровень локализации поднимется с текущих условных 20–30% до 50% и выше. Это позитивно скажется на устойчивости цепочек поставок и ценовой доступности продукции.
Возможные изменения в структуре рынка включают и изменение конкурентной динамики. Сейчас много игроков борются за место, но вероятно укрупнение за счет слияний и партнерств. Возможно появление крупных холдингов, объединяющих разных производителей компонентов под одной «экосистемой» – чтобы предлагать клиенту комплексное решение «под ключ». Тому есть предпосылки: госкорпорации могут консолидировать отрасль (например, Ростех уже имеет в своем контуре несколько предприятий автоматизации и, возможно, интегрирует их усилия). Также крупные частные компании – интеграторы могут приобретать мелких производителей для расширения портфеля. Через три года рынок, вероятно, стабилизируется: из нынешнего многообразия фирм укрепятся сильнейшие, завоюют доверие заказчиков. Их мы и будем считать новыми лидерами российской промышленной автоматизации.
Подведем итог. Рынок компонентов для промышленной автоматизации в России проходит период масштабных перемен. В краткосрочной перспективе (три года) его ждет рост объемов, увеличение доли отечественных продуктов, завершение основных проектов импортозамещения и рождение новых технологических решений. Санкционное давление превратилось из проблемы в своего рода катализатор – стимулируя локальное производство и инновации. Конечно, трудности сохраняются, но есть уверенность, что к 2027 году российские датчики, приводы, контроллеры и силовая электроника перестанут восприниматься как временная замена, а станут естественной частью ландшафта. Как отмечают участники рынка, прошедший стресс-тест сделал отрасль только сильнее: впереди новые вершины – от выхода на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией до полной технологической самостоятельности в ключевых сегментах. Вполне возможно, что через несколько лет журналу «Рынок Электротехники» предстоит писать уже о российском экспорте промышленных компонентов и их успехах за рубежом – предпосылки для этого закладываются уже сейчас.